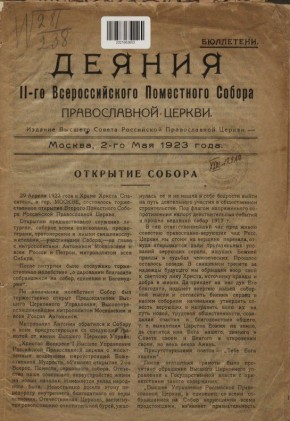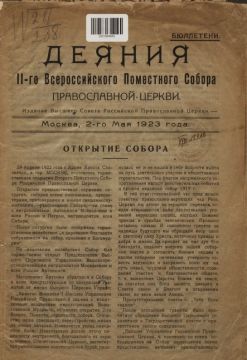12 октября 1771 года на Украине родился русский генерал, любимец Суворова, который много раз ходил в атаки впереди своих солдат. За бесшабашную храбрость его называли "русским Мюратом", сравнивая с одним из наиболее ярких и храбрых наполеоновских маршалов. Он всегда встречал врага грудью, но застрелили его в спину, и застрелил свой – русский
Малой родиной Михаил Андреевич Милорадович считал село Вороньки в современной Черниговской области (тогда это была Полтавская губерния).
Его отец принадлежал к сербскому дворянскому роду Милорадовичей-Храбреновичей, который происходил из Герцеговины. Его прадедом был сподвижник Петра I Михаил Ильич Милорадович, которого царь на 11 лет отправил на Украину командовать Гадячским полком, а потом посадил в крепость за злоупотребления. Его выпустила уже Екатерина I, вернувшая ему всё, что он "наполковал" за время своего полковничества.
По женской линии, со стороны матери, Марии Андреевны Горленко, наш герой также был потомком левобережных полковников. Прилуцким полком командовал его прапрадед Дмитрий Лазаревич Горленко, при Мазепе, до его предательства, занимавший должность наказного гетмана. Дед, Андрей Андреевич Горленко, был последним полтавским полковником Войска Запорожского, затем в Русской армии дослужился до бригадира. С такой родословной неудивительно, что Михаил стал делать карьеру по военной линии.
Его отец, генерал-поручик Андрей Степанович Милорадович, был героем Семилетней и Русско-Турецких войн. Дружил с Суворовым и Кутузовым, вместе с которыми бил турок, был близко знаком с Потёмкиным. С 1779 года старший Милорадович 15 лет управлял Черниговским наместничеством. Когда Екатерина II хотела его наградить очередным орденом – вместо этого место попросил устроить сына Михаила в лейб-гвардии Измайловский полк. В результате к 16 года Милорадович уже "выслужился" до офицерского звания прапорщика.
В екатерининской России это было в порядке вещей – именитые дворяне записывали своих отпрысков в гвардию рядовыми ещё в младенчестве, и когда те действительно приезжали на службу – уже имели офицерские звания по выслуге лет.
Пока шла его "служба" в гвардии, Михаил с двоюродным братом Гришей учился в Германии и Франции. В Россию он вернулся, хорошо говоря по-немецки и по-французски и отлично зная целый ряд естественных и гуманитарных наук. По поводу прибытия в российскую столицу Милорадович пошил на себя 365 фраков (по аналогии с комплектом "неделька" получился эдакий комплект "годик"). Это и по нынешним временам удовольствие недешёвое, а тогда такое расточительство вообще вызвало среди столичного общества (особенно щеголей) взрыв недовольства, и Михаил сбежал от него на родину, в черниговское село.
Однако он продолжал числиться в гвардии и 1787 году прибыл к месту службы. За следующие 10 лет Милорадович сделал головокружительную карьеру от прапорщика до полковника. В 1788 году император Павел I присвоил ему звание генерал-майора и назначил шефом Апшеронского мушкетёрского полка.
О генерале заговорили после Итальянского и Швейцарского походов Русской армии, в которых Милорадович участвовал вместе со своим полком под началом фельдмаршала Александра Васильевича Суворова. В атаки он ходил впереди своего полка, чем вызвал любовь и уважение и солдат, и самого Суворова. Тот отметил храброго генерала ещё в первом сражении Итальянского похода, состоявшегося 26-28 апреля 1799 года на реке Адде. Михаила он знал ещё с детства, когда посещал имение его отца. Теперь же сделал его своим дежурным генералом.
В самом окончании Швейцарского похода 6-7 октября 1799 года Русская армия переходила через перевал Паникс в долину Верхнего Рейна. Взобравшись на гору Бинтнерсберг суворовские солдаты остановились у почти отвесного заснеженного склона. Они решали, как им теперь спускаться в долину у города Иланц, где их уже ждали французы. Милорадович крикнул: "А вот как!" – опрокинулся на спину и лихо покатился по снегу вниз. В последовавшей затем атаке суворовская армия буквально смела неприятеля.
В советские времена Милорадовича недолюбливали, поэтому в литературе о Швейцарском походе чаще упоминали генерала Багратиона, хотя они с Милорадовичем в нём играли практически одинаковые роли. Если в авангарде находился Багратион, арьергард возглавлял Милорадович, и наоборот. В следующий раз два прославленных генерала встретились уже под началом Михаила Кутузова.
Тогда в августе 1805 года 50-тысячная русская армия двинулась в Австрию на соединение с австрийской, чтобы затем разгромить Наполеона. Однако тот опередил соединение союзников – в октябре под Ульмом австрияки были разбиты. Кутузов приказал отступать. Последовал ряд героических арьергардных боёв, из которых чаще вспоминают сражение 16 ноября 1805 года под Шёнграбеном. Тогда арьергард под командованием Багратиона сдержал в три раза превосходивший его авангард французов, дав тем самым основным силам отойти.
Однако, пятью днями ранее под Кремсом 4,5-тысячный отряд Милорадовича, имитируя, что он арьергард русской армии, также успешно сдерживал превосходившего его противника – городок Унтер-Лойбен 4 раза переходил из рук в руки. Тем временем 10-тысячный отряд Дохтурова и 3-тысячный отряд Штрика обошли врага и нанесли ему удары во фланг и тыл. В результате головная дивизия французов потеряла до трети своей численности – около 3 тыс. человек. Русская армия смогла оторваться от французской.
В навязанном Кутузову императором Александром I 2 декабря 1805 года сражении под Аустерлицем 4-й (центральной) колонной командовали австрийский генерал Коловрат-Краковский и русский Милорадович. В Русско-турецкой войне 1806-12 годов его корпус освобождал Бухарест, принимал участие в победоносных для нас сражениях при Турбате, Обилешти и Рассевате. В 1810 году генерала назначили киевским военным губернатором, и он на время оставил армию.
9 июля 1811 года на Подоле вспыхнул пожар, уничтоживший почти весь Нижний город, в основном деревянный – было много жертв. Усилиями Милорадовича удалось за счёт пожертвований дворянского сословия компенсировать часть убытков горожан и преодолеть кризис.
В июле 1812 года с началом наполеоновского вторжения генерал получил от императора распоряжение мобилизовать полки Левобережья, Слобожанщины и Новороссии и привести их под Москву. С этими силами в конце августа Милорадович присоединился к армии Кутузова у Гжатска. В последовавшем вскоре Бородинском сражении он командовал правым крылом 1-й армии Барклая де Толли.
Его адъютант оставил воспоминания, как он сражался:
"Он, казалось, оделся на званый пир! Бодрый, говорливый (таков он всегда бывал в сражении), он разъезжал на поле смерти как в своём домашнем парке; заставлял лошадь делать лансады, спокойно набивал себе трубку, ещё спокойнее раскуривал её и дружески разговаривал с солдатами… Пули сшибали султан с его шляпы, ранили и били под ним лошадей; он не смущался; переменял лошадь, закуривал трубку, поправлял свои кресты и обвивал около шеи амарантовую шаль, которой концы живописно развевались по воздуху. Французы называли его русским Баярдом; у нас, за удальство, немного щеголеватое, сравнивали с французским Мюратом. И он не уступал в храбрости обоим".
Милорадовичу выехал передовую и приказал накрыть там себе завтрак. Когда один из ординарцев набивал генералу трубку, ядро оторвало ему голову. Следующий ординарец докончил начатое, и Михаил Андреевич, как ни в чём ни бывало, продолжил отдавать приказания. Другой прославленный генерал 1812 года Алексей Петрович Ермолов впоследствии ему писал: "чтобы быть везде при вашем высокопревосходительстве, надобно иметь запасную жизнь".
При легендарном манёвре Кутузова с отходом русской армии к Тарутино, Милорадович командовал её арьергардом, в то время как маршал Иоахим Мюрат, с которым его сравнивали – авангардом французов. Они встретились в бою под Чириковым, и тут началось состязание двух храбрейших генералов своих армий, двух позёров и любителей красивых нарядов в галантности. Они без свиты ездили друг к другу в гости. Мюрат полушутя, полувсерьез предлагал:
– Уступите мне вашу позицию.
– Извольте её взять, я вас встречу.
Мюрат под выстрелами русской артиллерии приказал накрыть себе в виду русской армии кофе. Милорадович выехал в передовую линию своих войск, увидел это и потребовал:
– Стол мне сюда! Прибор! Здесь я буду обедать!
В конце концов, оба договорились о временном перемирии, которое позволило Русской армии оставить Москву, сохранив порядок, что стало залогом будущей победы.
В последующих боях войны 1812 года и Заграничном походе Милорадович, как правило, возглавлял авангард русского воинства. Он прославился в делах под Малоярославцем (когда французскую армию не пустили к Калуге, а погнали по разорённой ею Смоленской дороге), под Вязьмой и во множестве других сражений. В битве под Лейпцигом в октябре 1813 года генерал командовал русской и прусской гвардиями, брал Париж. 1 мая 1813 года император возвёл его вместе с потомством в графское достоинство.
После окончания войны Милорадович командовал гвардейским корпусом, а с 19 августа 1818 года стал санкт-петербургским военным и гражданским генерал-губернатором и членом Государственного совета.
После смерти Александра I Милорадович, являясь противником кандидатуры будущего императора Николая I, настоял, чтобы он отказался от престолонаследования в пользу брата – Константина Павловича. Но тот быть монархом отказался, и престол всё же занял Николай. Он приказал Милорадовичу 26 декабря, в день принесения ему присяги, арестовать интриговавших против него заговорщиков, но тот его проигнорировал.
В этот же день началось Восстание декабристов, которые вывели войска на Сенатскую площадь. Зная, что его любят солдаты, Михаил Андреевич выехал к ним и стал увещевать вернуться в казармы. Именно за это его впоследствии и не любили советские историки и публицисты.
В спину прославленному генералу выстрелил отставной офицер Пётр Григорьевич Каховский. Удар штыком нанёс другой декабрист гвардейский офицер князь Пётр Евгеньевич Оболенский, но причиной смерти стала именно пуля. Когда её извлекли и показали умиравшему Милорадовичу, он воскликнул: "О, слава Богу! Это пуля не солдатская! Теперь я совершенно счастлив!" Он также пошутил, что, к сожалению, после сытного завтрака не смог переварить "такого ничтожного катышка".
Перед смертью прославленный генерал дал вольную всем своим полутора тысячам крепостных и попросил императора утвердить её. Николай I исполнил волю героя, который всю свою жизнь прожил, как истинный русский рыцарь и ушёл из неё таким же образом, оставив в сердцах потомков только самые светлые и благодарные воспоминания.